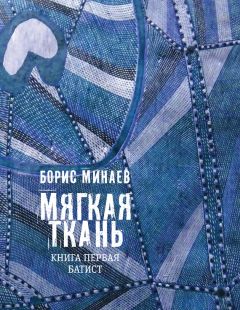Ознакомительная версия.
Войдет медсестра и сделает укол.
Он повернется к стене. Ла-Манш плескался у самых глаз. Господи, как тогда было хорошо. И хорошо было всегда, всю его жизнь. Вот что правда.
Но тогда, в те июльские и августовские дни, планам Дани не суждено было сбыться – он наметил новый заплыв на третье августа, а первого августа Мировая война началась и для России.
Мари дождалась его. Она так и осталась сидеть на берегу, вооружившись креслом, пледом, бутербродами и даже бутылкой вина. Она решила, что если он не вернется, то она просто не встанет с места. Так и будет сидеть, пока не умрет.
Но он вернулся.
Течение снесло его на целый километр – вот это да, подумал про себя Даня…
Потом, когда они обсуждали это, лежа в постели, Даня спросил ее:
– Ну и что ты собиралась там делать?
– Даня, мне совершенно все равно, переплыл ты этот пролив или нет. – Она глядела на него влюбленными, веселыми, ясными глазами. – Я знала, что ты не можешь умереть, и вот ты не умер.
– Нет, я мог, – нахмурился он. – Я мог, даже хотел… Когда понял, что не могу доплыть…
– Какой ты дурак, – сказала Мари и начала его целовать.
Ее руки скользили по его лицу…
Два дня они провели как во сне.
Какие-то добрые люди перенесли их вещи в другую гостиницу, постелили им огромную постель, завесили окна плотными шторами, так что даже любовные крики и стоны Мари и его самого не могли никого побеспокоить, иногда они даже приносили им пищу на подносе, как-то незаметно, и как-то незаметно, улыбаясь, Мари благодарила их и платила, доставая из кошелька деньги, а он лежал на этой необъятной, как море, постели и думал о том, что третьего августа сделает вторую попытку и в этот раз уже ни за что не повернет назад, как бы тяжело ему ни было.
– Значит, второго августа тебе нельзя. Ты будешь только есть и спать в этот день, – сказала Мари, когда он признался, о чем думает. – Но учти, если ты не вернешься, я тоже войду в воду и поплыву за тобой. А я очень плохо плаваю.
Первого августа Дане захотелось пораньше выйти, чтобы посмотреть, какое будет небо.
Он вышел на набережную, Мари еще спала. Вокруг было непривычно много людей для такого часа, все что-то кричали. Даня прислушался. Все кричали: «Война! Война!». Дети, старики, женщины и толстые краснолицые мужчины кричали одно и то же: «Смерть бошам!.. Война! Война!». На всех лицах была радость, по крайней мере огромное оживление. В открытых кафе люди пели, слова были странные, Даня с трудом их разбирал, иногда, правда, сквозь этот частокол неизвестных ему песен пробивалась «Марсельеза».
Вечером он получил телеграмму от отца (свой адрес он оставил хозяйке в Клермон-Ферране). Телеграмма кончалась такими словами: «Если ты останешься там, мы с мамой этого не переживем».
Сказано было ясно и просто. Он показал телеграмму Мари. Она долго ничего не могла понять.
– Какая война? О чем ты? – дрожащим голосом спросила она.
– Россия вступила в войну. Я должен ехать домой.
– Почему?
– Отец и мать старые. Как ты не понимаешь? Поставь на их место свою мать, своего отца.
– Господи, да если б я могла… – махнула она рукой.
– Что могла?
– Если бы я могла покинуть дом, не видеть их, жить своей жизнью! Я бы ни минуты не сомневалась! – закричала она нервно, злобно, истерично и вдруг разрыдалась. – Данечка, неужели ты не понимаешь… – шептала она сквозь слезы, которые лились потоком, сотрясая ее тело, как будто страшные судороги сводили все ее мышцы. – Ты никогда не переплывешь теперь свой Ла-Манш! Все, Даня, это конец! Конец твоему заплыву.
Он обнял ее и долго держал. Они сидели на краю огромной кровати для молодоженов, над которой потешались еще день назад, ползали по ней, носились, как дети, на карачках, боролись и пихались, а потом надолго замирали в поцелуе.
Только сейчас он заметил невыносимо розовый цвет покрывала и нежно погладил ткань рукой. Долго он будет вспоминать эту мягкую ткань. Насколько долго?
Ему хотелось повалить Мари навзничь, покрыть поцелуями, сорвать с нее одежду, заставить забыть о телеграмме, о войне, о родителях, обо всем, но сейчас она была во власти гнева. Только к кому был обращен этот гнев? К нему?
– Мари, – начал он говорить очень тихо и спокойно, – я уезжаю не навсегда. Неужели ты думаешь, что я брошу учебу? Мы живем не в Средневековье. Да, сейчас все очень плохо, но это не будет продолжаться вечно. Пройдет месяц, три, от силы полгода, и все как-нибудь разрешится. И мы решим, как нам быть с этим солнцем, насколько мы его боимся, чтобы позволить ему не дать… – Он запнулся.
– Что не дать? – Она всхлипнула и подняла голову.
– Не дать нам пожениться….
Она толкнула его в грудь:
– Что? Негодяй! Ты нагло соблазнил меня, лишил невинности, а теперь уезжаешь и говоришь, что когда-нибудь женишься? И ты считаешь, что я буду ждать?
Он улыбался.
– Ну что ты улыбаешься… Это же правда! Ты обманул меня один раз, а теперь хочешь обмануть второй.
– Я вернусь, и я переплыву Ла-Манш.
– Ты бы смог… Я знаю. Но они не дадут тебе. Ты просто не знаешь их. А я знаю. Даня, они все сошли с ума. И боши. И французы. И твои русские. Они все хотят победить. И все проиграют.
– Я не понимаю, о чем ты говоришь. – Он встал и подошел к окну.
– Ладно, – сказала она, – уезжай. У тебя дом, семья.
– А у тебя? Может, вместе доберемся до твоего дома? Ты меня познакомишь с родителями.
– Нет, ни к чему, – пожала она плечами. – Тебе надо спешить. Тебе нельзя медлить.
Даня пошел на вокзал и взял билет на поезд до Марселя. Дорога через Лондон, Гельсингфорс и Петербург показалась ему опасной. Газеты уже были полны пугающих заголовков: немецкие субмарины потопили теплоход, немецкие корабли не пропускают пассажирские суда и яхты, немцы поставили кордон, объявили блокаду… «Все это ерунда, молодой человек, – сказал ему старый господин в здании вокзала. – Куда вы торопитесь, неужели не понимаете, что сейчас все обезумели, но скоро это успокоится, не верьте газетам». Однако как он мог не верить, тем более французским газетам, все они кричали о войне, везде были карикатуры на немцев: жирные, мерзкие, те пытались своим ботинком придавить всю Европу, но их поднимал на штык доблестный французский воин, и доблестная французская мать провожала на войну своего сына: возвращайся с победой, сынок, возвращайся с победой. С буфетных стоек убирали бутылки с немецким пивом – господи, какой бред, подумал Даня. Был еще один путь, через Вену, но об этом не могло быть и речи. Он подумал и взял билет до Марселя, этот путь казался самым прямым, самым простым и понятным: примерно сутки до южного берега, там на пароход и еще трое суток до Одессы, оттуда поездом до Харькова – Господи, уже через четыре дня он будет дома. Больше они не говорили с Мари о войне ни слова, не говорили и о том, что она не ответила ни да, ни нет, когда он заговорил о женитьбе, о своем предложении, – это было больно, но она была права, наверное, права, не время сейчас думать об этом, нужно думать о том, как добраться домой, и о том, что будет потом, когда кончится вся эта свистопляска и он сможет вернуться или она приедет к нему – такой вариант он тоже не исключал, никто не знает, как Европа отнесется к иностранцам, что с ними будет; в России, по крайней мере, есть империя, она может унизить, выслать, поразить в правах, но не выгонит…
Потом он пришел с вокзала и они целый день бродили по городу. Был пасмурный день, то и дело приходилось прятаться в кафе, в каких-то беседках, павильонах. Даня как будто впервые увидел этот очаровательный городок, северный атлантический курорт, абсолютно игрушечный, весь состоящий из временных деревянных сооружений для туристов, столы и стулья на улице, под зонтами, деревянные скамейки перед эстрадами, везде огромные зеркала, в которых отражалась Мари, нервно снующие официанты – день был особенный, никто не хотел сидеть дома, набережная была полна, несмотря на накрапывающий дождик, рябило в глазах от зонтиков, Мари тоже раскрыла свой темно-вишневый, они пили абсент, потом ликер, потом снова абсент, у нее были алые щеки, Даня смотрел сквозь мелкую морось дождя и слабый теплый туман на силуэт пролива, на перспективу серой воды, Господи, какой же милый, уютный, очаровательный город, почему же он раньше его не замечал, почему все так поздно, почему он только сейчас понял, как она его любит, просто дрожит, когда он прикасается к ней, почему он не поплывет завтра через Ла-Манш, какая ему разница, война – не война, ведь он приехал сюда, чтобы стать ее мужем и переплыть пролив, это же как-то очень ясно и прозрачно связано между собой, может быть, это сумасшествие, глупость, бред, но связь эта есть, он не сможет на ней жениться, если не переплывет пролив, и, словно угадав его мысли, она еще крепче прижала его локоть к своей груди, совсем спряталась под зонтик, пронзительно посмотрела на него и вдруг как-то странно хихикнула: ты очень положительный, Даня, ты прямо уже сейчас готовый отец семейства, образец добродетели, о чем ты, да так, ни о чем, для тебя нет ничего выше семьи, а главное, правил, по которым она живет, а я же не знаю этих правил, в каждой семье свои, как я могу подчиниться тем, которых совсем не знаю, ничего подобного, отпарировал он с усмешкой, я же нарушил правила, и ты прекрасно это знаешь, наши правила мы будем устанавливать сами, ведь будем? или не будем? будем или не будем, он остановился и развернул ее к себе, ты уезжаешь, прошептала она, ты уезжаешь, Даня, давай сегодня не станем говорить об этом, и они продолжали свой путь уже молча или болтая о пустяках, мокрый город блестел после дождя, дышали камни, распахивались окна, всюду играла музыка, все было как в последний раз, несколько человек приготовились слушать певицу в павильоне, где опять были огромные, во всю стену зеркала, белые скатерти, хрустальные графины, темное вино, они сели, певица раскрыла ноты, это были песни Рихарда Штрауса, и как только она запела на немецком, раздался крик: шлюха, немка, уходи, она гневно продолжала петь, не испугавшись и не желая подчиняться, произношение было четкое, ясное, возможно, она была из Эльзаса, возможно, просто хорошо выучила язык, как Даня выучил свой французский, голоса не смолкали, певицу все-таки согнали со сцены, и воцарилась тишина, тогда кто-то встал и запел, чтобы прочие подхватили хором, но никто не хотел, все уткнулись в тарелки, о чем он поет, о Франции, сказала Мари, они всё бросили и снова вышли на набережную, город продолжал сверкать и сиять, огни фонарей освещали мокрые лужи, мокрые стены домов, мокрые колеса повозок, мокрые лица людей, мокрые глаза, все прощались с мирной жизнью, все напивались вдрабадан, и мы с тобой напились, сказала Мари, но пока они шли до гостиницы, весь хмель из него вышел, еще было два часа до поезда, она выскользнула из его рук и стала собирать ему вещи, нет-нет, не проси и даже не смей, ты должен хотеть меня все эти дни, пока будешь ехать, и продолжать меня хотеть всю жизнь, даже если проживешь ее без меня, говорила она, укладывая в чемодан его платки, журналы, брюки, вещей было немного, он все оставил там, в Клермон-Ферране, она обещала потом выслать, говорила об этом, когда провожала его до угла улицы, и когда он плакал, пытаясь обнять ее, она отстранялась, не волнуйся, твердила, я все тебе вышлю, Даня, уходи, у тебя долгий путь, очень долгий и страшный, я верю каждому твоему слову, я знаю, что ты захочешь приехать, но…
Ознакомительная версия.